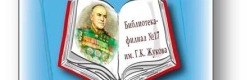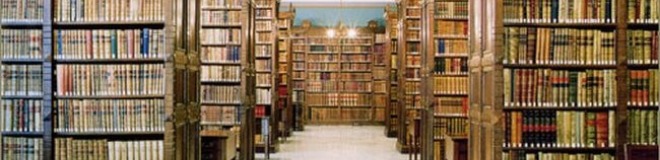258 лет со дня рождения Николая Карамзина.
"Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России". А. С. Пушкин.
Николай Михайлович Карамзин (1 (12) декабря 1766, родовое поместье Знаменское, село Михайловка Симбирской губернии) — 22 мая (3 июня) 1826, Санкт-Петербург) — выдающийся историк, крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма, прозванный русским Стерном.
Литературный критик Лиза Биргер рассказывает о Николае Карамзине, который сотворил себя сам, буквально из ничего, и стал отцом русского сентиментализма, русской истории и русской утопии.
Об этом написана одна из лучших филологических книг ХХ века, «Сотворение Карамзина» Юрия Лотмана, вся посвященная чуду карамзинского самосотворения: человек, «родившийся с великими способностями», решил «сотворить себя хорошим писателем» — и преуспел.
Карамзин — это от татарского «кара мурза», то есть черный господин, так звали татарского князя, перешедшего много столетий назад на русскую службу. Род симбирского помещика, отставного капитана Михаила Егоровича, был почетный, но обедневший.
Мать будущего историографа, Екатерина Петровна, умерла в 1769 году, когда Николаю было только три года, и он едва ее помнил. Но от матери осталась немаленькая библиотека русских романов — и пока русская знать зачитывалась французской прозой, он глотал повести о преодолевающей препятствия любви, память о которых сохранил и воспел позже, например, в автобиографии «Рыцарь нашего времени».
Его бонной была русская нянька, его учителем словесности — деревенский дьячок, учивший его грамоте по «Часослову», его пейзажами — волжские просторы, которые он позже воспоет в стихах («Теки, Россию украшая; Шуми, священная река»), а первым религиозным откровением — встреча с медведем, который готов был задрать четырехлетнего Николая, но поражен был молнией с небес. Как тут было не уверовать в высшие силы?
Николай Михайлович Карамзин имел славу одного из самых образованных людей своего времени. Год он отучился в частном пансионе в Симбирске, затем был отправлен в Москву и поступил в частный пансион Иоганна Шадена, одного из первых профессоров Московского университета, где в совершенстве овладел французским и немецким, где также изучал древние языки, а прежде всего логику, философию и этику.
В пансионе Шадена Карамзин провел три года, и хотя мечтал отправиться из него прямо в Московский университет, а еще лучше в Лейпциг, где преподавал сам Геллерт, планы пришлось поменять. Против был отец — он хотел, чтобы сын, как и все Карамзины, поступил на военную службу. В Преображенский полк отпрыск был записан еще восьмилетним, но повоевать ему так и не пришлось — оказалось, чтобы попасть на передовую, надо дать взятку полковому секретарю, а у Карамзина денег не хватило бы даже на офицерский мундир. Да и взяток он, прославившийся своей честностью, ни тогда, ни позже не давал. А прослужил в итоге всего полгода, в конце которых отца не стало, и Карамзин, оплакав свое сиротство, вложил меч в ножны («Россия, торжествуй, сказал я, без меня!»), вооружился чернильницей и пером и отправился на литературный фронт — в Москву.
Превратиться из домашнего самоучки в настоящего ученого Карамзин сумел благодаря тому, что не прекращал учиться до конца жизни, по выражению Пушкина, «уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению».
В середине 1780-х, в начале своей литературной жизни, он стал одним из издателей журнала «Детское чтение», занимался переводами, например, одним из первых перевел на русский Шекспира, трагедию «Юлий Цезарь», весь тираж которой был после уничтожен цензурой.
Для «Детского чтения» он писал стихи и сочинял короткие сентиментальные рассказы, которые одновременно пугали родителей недетскими страстями и ими же, очевидно, манили. Наконец, закончив домашнее обучение, как и положено после университетов, Карамзин отправился за границу. Для этого заложил отцовское имение и, как сам весело вспоминал позже, отказался от ужинов в пользу книг — и собрал в итоге неплохую библиотеку. Тем ужаснее, что большей ее части суждено было сгореть в московском пожаре.
Путешествие в Европу.
Путешествие за границу началось в 1789 году и совпало с Французской революцией — Карамзин успел пообщаться и с ее героями, и с простыми европейцами. По следам этой поездки написаны «Письма русского путешественника», книга, которая и без всякой «Бедной Лизы» вывела Карамзина в первые ряды русской прозы. Незаслуженно забытые сегодня «Письма», по мнению многих исследователей, первая настоящая европейская прозаическая книга в русской литературе.
Его книга лишена как преклонения перед Западом, так и отвращения к нему. Попробуйте сами представить, что значит быть во Франции в разгар революции и не написать агитку! Отсюда рождается та самая беспристрастность, что сделала его в итоге отцом русской истории, редкое умение стоять над схваткой, вне схватки. Именно оно и сделало «Историю государства Российского» таким очевидным литературным хитом. Впрочем, как мы помним, один хит из-под пера Карамзина вышел все-таки раньше.
Первый русский Young adult
В 1791 году Карамзин вернулся в Москву и принялся издавать собственный журнал. «Московский журнал» стал практически первым русским литературным изданием.
Журналы XVIII века были скорее похожи на альманахи: истории с продолжением. Карамзин же стал издавать журнал о духе времени: с рецензиями, критическими статьями о литературе и театре. И, конечно, именно в нем в 1792 году была напечатана «Бедная Лиза», можно сказать, первый русский Young adult.
Начальник над историей
Какого Карамзина ни возьми, сочинителя сентиментальных поучительных историй из XVIII века или патриотического историка из века ХIХ, в нем неизменна была уверенность в божественном пригляде над миром. И если не над миром в целом, то уж над русским миром наверняка.
Из этой веры родился грандиозный замысел — написать «Историю государства Российского», собрать документ торжества чистого разума — и самодержавия, конечно же, — из источников, в которые кроме него никто не заглядывает. В 1803 году Александр I пожаловал Карамзину титул «историографа» и две тысячи рублей годового жалования. И тот полностью отошел от литературы, чтобы посвятить себя истории. Первым плодом его исторической деятельности была «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях».
В 1811 году он подал Александру I этот краткий курс истории России с рекомендациями на будущее царствие: «Мудрость целых веков нужна для утверждения власти: один час народного исступления разрушает основу ее, которая есть уважение нравственное к сану властителей». Записка поначалу императора здорово разозлила, но пять лет спустя, отказавшись от большинства своих либералистских реформ, царь сам призвал Карамзина и даже подружился с ним — поселил в китайский домик в Царском Селе, чтобы в любой момент постучать в дверь для продолжительных бесед о судьбах России.
В каком-то смысле двенадцатитомная «История государства Российского» была тоже написана лично для государя. У Карамзина было государево разрешение печататься в военной типографии, в обход цензуры.
Можно сказать, что с государем ему повезло, и историограф отвечал Александру взаимностью: «Люблю только любить Государя», — писал он в одном из поздних писем. Одной из причин, почему государь так доверял Карамзину, был проповедуемый историографом принцип исторической беспристрастности: «выдуманная речь безобразит Историю». Пушкин говорил: «„История государства Российского“ есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека», — именно потому, что понимал, какой бесконечно ответственной задачей было писать «Историю» буквально лично для государя — и до последней буквы оставаться в ней беспристрастным.
Но сочиняя «Историю государства Российского» для государя, Карамзин и представить себе не мог ее грандиозного успеха у публики. Тираж в 3000 экземпляров, по тем временам казавшийся немыслимым, разошелся чуть ли не в месяц. Пушкин описывал, как долгое время ни в одном салоне ни о чем другом не говорили: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом».
Вяземский рассказывал, как граф Толстой-Американец «прочел одним духом восемь томов Карамзина и после часто говорил, что только от чтения Карамзина узнал он, какое значение имеет слово Отечество, и получил сознание, что у него Отечество есть».
Источник: https://vk.com/wall-5197510_295159